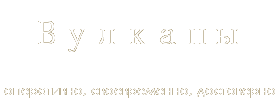|
|
2025-10-18 12:17 Летучие рыбы: пора ли птицам на покой?    Не так давно у нас вышла заметка, посвященная вымиранию летучих мышей. Кто не читал — категорически советую. В комментариях нашлось много интересных вопросов и дополнений. Тогда стало ясно, что дискуссия выходит за пределы обсуждения конкретной публикации. Столь обширная тема заслуживает подробного разбора. Все комментаторы, высказавшиеся там, получат свои ответы по очереди. Первой из комментаторов станет Катя Рябова с её вопросом: могут ли появиться по-настоящему летающие рыбы и, если да, выйдет ли у них потеснить птиц? Чтобы найти ответы, нужно, так сказать, зрить в корень. А корни этой истории лежат очень далеко и глубоко — в палеонтологической летописи. Как говорится, это было давно и неправда — Земле всего 200 лет, Питер был откопан при Петре, а все окаменелости намеренно спрятаны учёными. Если уважаемые читатели придерживаются подобного мировоззрения, то Биореактор облегчит их работу. По крайней мере, теперь можно не обличать ложь эволюционистов: мы признались в ней сами. Более адекватные подписчики, наверное, пошли читать дальше. По ходу заметки мы будем неоднократно обращаться к таксономии — учении, всеми ненавидимом ещё со школьной скамьи. Без него, к сожалению, никак. Итак, что у нас есть? Есть птицы и есть рыбы в состоянии de facto. Поставленная задача — выяснить, каким образом вторые (рыбы) могут вторгнуться на территорию первых (птиц) в качестве полноценного претендента на господство в воздухе. Подсказка — существующие и многочисленные летучие рыбы, у которых что-то начало получаться. Вводные известны. Любая конкуренция начинается с ограниченного ресурса. На обладание им стоит очередь желающих. Чем интереснее перспективы — тем более ожесточенной будет борьба. О прошедшей битве мы можем судить по эволюционному разнообразию и морфологическим адаптациям животных, которые неизбежно появляются во время захвата экологической ниши. Поэтому сперва раскроем сущность главного приза: воздуха. По условию задачи, именно за него ведется битва. Главное, что здесь надо понимать: воздух отнюдь не отдельный мир. Это придаток к земле и часть глобальной наземно-воздушной среды. Дело в том, что в основе жизни лежат химические реакции, а им, в свою очередь, нужны определенные молекулы в нужной концентрации и среда-растворитель. Со всеми пунктами у воздуха не очень. Относительно крупные и тяжелые молекулы, что болтаются в небе, рано или поздно упадут на поверхность. Если даже не упадут, то или не смогут найти друг друга, или не сумеют прореагировать ввиду малого количества растворителя (воды). Конечно, в микроскопических каплях, составляющих облака, химические реакции идут. Там даже обитают фотосинтезирующие микроорганизмы, но вот зеленых облаков мы почему-то не видим. Слишком уж низкая продуктивность у воздуха, намертво привязанного к земле. Все необходимые ресурсы берутся именно там. Жить в воздухе на постоянной основе невозможно. Будь иначе, земные организмы нашли бы способ поселиться там с концами. Именно поэтому условное «небо» используется чисто утилитарно. В основном для сокращения расстояний. Путь по земле часто бывает извилистым, а некоторые области, куда животному хочется попасть, могут быть попросту недоступными из-за естественных преград. Такая особенность наземной среды здорово тормозит скорость и накладывает ограничения на дальность перемещений. Воздух же открыт и явных преград не выставляет. Для понимания воздушной среды будет корректным привести аналогию из научной фантастики в виде гиперпространства — общей для мира «изнанки», куда нелегко попасть, но где можно быстро носиться. Насекомые первыми просекли фишку. До сих пор летающие формы насекомых успешно выполняют две глобальные задачи: расселение и размножение. Перепончатокрылые (муравьи, осы и шмели) активно практикуют полет, опыляя огромное множество растений. По сравнению с землей и океаном воздух практически демилитаризован. Профессиональные летающие хищники есть, но их по определению мало, а ещё они рассеяны над обширной территорией. Значит, животное в небе чувствует куда больше безопасности, чем сидя на земле или даже прячась в укрытии. Собственно говоря, летучие рыбы именно поэтому научились летать. Они относятся к Лучеперым — самому прогрессивному классу костных рыб. Благодаря ажурному, пружинному скелету Лучеперые добились относительно высокой мощности организма. Из неё вытекает много интересных следствий. Основной результат — 99% современных рыб относятся именно к Лучеперым. Что-то более совершенное на «рыбьей» базе придумать уже нельзя. Лучеперые стали на крыло (вернее, плавник) недавно. Палеонтологическая летопись свидетельствует, что первые попытки взлетать начали предприниматься рыбами только в палеогене. Всего лишь 20 или 30 миллионов лет назад (оценки разнятся). Оно выглядит странным, если смотреть на дело в глобальном плане. Лучеперые рыбы известны с Силура, а тот был целых 420 миллионов лет назад. Что рыбы делали всё это время и почему заинтересовались воздухом так поздно? Ответ простой: раньше их ничто не гнало из моря. К своим, водным хищникам, рыбки неплохо адаптированы. Кормовой базы в океане хватало, а на суше как бы нечего делать. Все равно скелет, идеально приспособленный к воде, не особо подходит для ползания. Тем более, суша уже давно и прочно захвачена потомками амфибий, а они вряд ли уступят свое место. Но вот ударил палеоген — и в океаны пришла новая напасть. Появились китообразные. Примитивные, не самые адаптированные, но на голову превосходящие всех прежних хищников. За счет воздушного дыхания и вшитой теплокровности киты умеют выдавать такую мощность метаболизма, до которой не дотянется даже акула на максимальном форсаже. Кроме того, киты активно экспериментировали с сонаром, позволяющим засекать скопления добычи на расстоянии километров. Что делать в этой ситуации? Можно плавать в косяках, где за счет одной лишь теории больших чисел рыбки находятся в относительной безопасности. Кого-то протокит съест, но далеко не факт, что конкретную рыбину. Многие лучеперые действуют так и бед не знают. Даже кормят не только других животных, но и людей со всем нашим промыслом, рыболовецкими тралами и сетями. Но можно обмануть систему. Для этого достаточно сменить среду, выскочив из воды. Акустические волны не перейдут в воздух. Значит, замеченная рыбешка внезапно «пропадет» с радаров. Как ни странно, идея заработала. Против других рыб этот метод действовал неплохо: все равно холоднокровный противник слишком глуп, чтобы мысленно продолжить траекторию летучей рыбы и приплыть туда, где ожидается приводнение. Обмануть млекопитающих не получилось. Китообразные, в отличие от изобретателей вечного двигателя, знают о законе сохранения энергии. Если летучая рыба пропала с сонара, надо просто поплыть дальше. Так началась гонка вооружений. Благодаря ней летучие рыбы освоили маневры. Поднявшись в воздух, эти существа способны ограниченно «подруливать» и, по некоторым сведениям, пользоваться попутным ветром. С учетом того, что единовременно взлетает целый косяк, вероятность выживания отдельной особи резко повышается. Полет этих рыб возможен только после подготовки. Для этого летучая рыба разгоняется под водой и как бы выныривает. Большая часть ее тела находится в воздухе, а хвост продолжает развивать усилие. Схожий принцип лежит в идее корабля на подводных крыльях. Потом летучая рыба расправляет плавники — и уходит в полет. В сети можно встретить данные о полетах до полукилометра, но более убедительные цифры — всё-таки десятки метров. Вкупе эти факторы обеспечили процветание летучих рыб. Они распространены в тропиках, создают серьезную биомассу и даже являются объектом промысла. Икра тобико, популярная в японской кухне, берется именно из этих ребят. Казалось бы, у летучих рыб отличные перспективы, и птицам пора бы на пенсию. Но нет. Из приведенных данных уже ясно, что полет для летучих рыб — экзотическая, работающая, но вынужденная мера. Становиться на крыло полезно только в случае ухода от хищника и при попытках обмануть китовый сонар, но не более того. Прочее ломается об рыбью физиологию. Жаберное дыхание — штука малоэффективная. Плавая в воде, рыба прокачивает эту самую воду через жабры, встречая огромное сопротивление. Кислорода в воде всего лишь 0.001% против 21% в воздухе. Значит, дышать воздухом в 21 тысячу раз эффективнее, чем жабрами! На кислород завязан весь «кислородный» метаболизм. Когда его не хватает, биохимия клеток уходит по пути бескислородного обмена с большой концентрацией отходов и меньшей продуктивностью. Соответственно, мозги уже «не варят», а мышцы «забиваются». Именно поэтому все виды, вернувшиеся в воду, никогда не отказывались от легочного дыхания. Слишком уж оно выгодное. Полет — штука энергозатратная. Для него надо хорошо дышать, много кушать и поддерживать высокую температуру тела. Конечно, многие рыбы умеют так или иначе «подогреваться» на форсаже, как это делают акулы. Активная мышца выделяет тепло как побочный результат работы. Но, тем не менее, в полной мере использовать преимущества ситуационной «теплокровности» рыбы не умеют. Не крокодилы же. В основном оно идет на подогревание океана. Следующий момент: а куда летучие рыбы собрались летать? За пределы теплых морей они не сунутся. Облетать препятствия в океане вовсе не нужно — это «бесшовная» локация. Куда надо, можно приплыть. Куда приплыть нельзя — там быть и не надо. Во избежание. Дополнительный аргумент в пользу того что летучие рыбы не свергнут птиц, основан на экологических перспективах. Допустим, летучие рыбы освоили легочное дыхание (что возможно, не трудно и многократно делалось рыбами). Ускорили метаболизм. Научились не только планировать, но и выдавать что-то вроде машущего полета. Стали уверенно чувствовать себя в воздухе. А дальше что? Чем они там будут заниматься? Охотиться в воздухе на мошкару? К чему такие сложности, если в океане хватает своего планктона? Прятаться на суше от хищников? Но ведь там есть сухопутные мясоеды, которые гораздо умнее, злее и проворнее любой акулы. Метать икру? Тоже бесполезно: ее моментально съедят. К тому же, что делать с зависимостью от воды и кожей, которой нельзя пересыхать? В общем, одни вопросы. Даже если придумать какую-то уникальную экологическую нишу, где летучие рыбы могут себя проявить, дальнейший анализ разобьется о птиц. Птицы просто не выпустят рыб в воздух. На этом стоило бы закончить заметку, но Биореактор любит выходить за рамки. На текущей (и любой представимой) Земле никакая летучая рыба не потеснит птицу. А что, если птиц нет? Что, если суша не играет значимой роли? Что, если вокруг только океан? Постоянные читатели уже догадались, что речь идет о неземных условиях. Наука допускает, что планеты-гикеаны, полностью покрытые водой, могут быть обитаемыми. Принципы конвергентной эволюции в любом случае приведут любую плавающую тварь к обтекаемой «рыбе». Да, это будут не наши, земные рыбы. Это будут вообще не рыбы. Всего лишь аналог. Вот здесь открываются головокружительные перспективы по морской колонизации воздуха. Жизнь склонна расползаться по всему доступному пространству, не сильно считаясь с человеческими представлениями о возможном. Если суши нет в принципе, а маховик естественного отбора уже раскручен мутациями, морские жители полезут в небо. Тут уже теряется научный подход и начинаются спекуляции. По факту, чем красивее автор обоснует свой концепт ксенофауны, тем убедительнее будут его идеи. Поэтому, решая задачу о летучих рыбах и птицах, мы дадим два равнозначных ответа. Нет, на Земле летучие рыбы вряд ли нанесут птицам поражение. Но, возможно, где-то во Вселенной существуют бескрайние и бездонные моря, над которыми роятся стаи жужжащих рыб. ********* Мы тут продолжаем ковыряться в древних окаменелостях, собирать деньги на наши лектории, рассказывать интересное и разоблачать всякое, чтобы вам было интересно и познавательно. Наш проект держится на чистом энтузиазме, поскольку монетизации, как вы понимаете, здесь нет. Если вам нравится то, что мы делаем, и вы хотите, чтобы мы продолжали выкапывать всякие приколы и делиться ими, то вы можете поддержать нас рублём на эту карту: 2202201559488453. Этот приятный бонус помогает нам не забросить хобби и не оставить платформу, которая делает всё, чтоб мы её ненавидели. Спасибо за поддержку. |