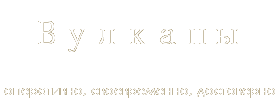|
|
2025-09-18 14:59 Весной 1930 года в купе поезда Ленинград-Москва познакомились и разговорились два пассажира     Весной 1930 года в купе поезда Ленинград-Москва познакомились и разговорились два пассажира. Обычная, казалось бы, дорожная история, но вот сами пассажиры были не вполне обычны. Один только что вернулся с острова Врангеля, где три года руководил первым советским поселением. Второй в начале двадцатых открыл на западе Таймыра рудные и угольные месторождения и основал Норильск. А ещё – получил награду норвежского правительства за найденные им останки Петера Тессема, погибшего участника экспедиции Амундсена на «Мод». Георгий Ушаков и Николай Урванцев знали друг о друге, но лично встретились впервые. Урванцев уже был в курсе, что его попутчик представил в правительство план экспедиции на почти неизученную тогда Северную Землю. Проговорили об Арктике всю ночь, а утром Ушаков предложил продолжить совместную поездку – до… Северной Земли! Николай Николаевич немедленно ответил согласием. Так будущая Североземельская экспедиция получила научного руководителя. Большую сушу к северу от мыса Челюскин, которую не обнаружили ни Норденшельд на «Веге», ни Нансен на «Фраме», открыла экспедиция Бориса Вилькицкого накануне Первой мировой войны. Но это великое открытие русских военных моряков не было завершено. Экспедиция Вилькицкого нанесла на карты лишь юго-восточный берег земли, названной в честь императора Николая II, и несколько близлежащих островов. Протяжённость земли к северу, её западные берега остались необследованными – этому помешали война и революция. Не было понятно и то, представляет ли собой новое открытие один большой остров или всё-таки архипелаг. Планы изучения Земли Императора Николая II возникали уже в начале двадцатых. Но, как и для всей Арктики, переломной точкой стал 1926-й год – Советский Союз официально объявил своими все арктические земли, лежащие напротив северного побережья страны. Тогда же остров Цесаревича Алексея стал Малым Таймыром, а сама Земля была переименована в Северную. Предлагалась и Земля Ленина, но остановились на более умеренном варианте… Но одной декларации мало – землю нужно изучать и осваивать. Иностранцы проявляли интерес к этой области Арктики и после 1926 года – например, в 1928-м в сторону Северной Земли летал Умберто Нобиле на дирижабле «Италия». Вопрос – как именно изучать? Обсуждение проектов экспедиции заняло несколько лет. Директор Института по изучению Севера (ИИС) профессор Самойлович настаивал на посылке к Северной Земле ледокола «Красин» с двумя самолётами на борту. Профессор оценил мощь ледокола в 1928 году, когда руководил походом «Красина» на спасение итальянских аэронавтов Нобиле (после рейса в советскую Арктику «Италия» полетела к полюсу и разбилась на обратном пути). Связка «ледокол-самолёт» казалась лучшим решением для исследований Центральной Арктики (и не только Северной Земли), но это было слишком дорого. Никто не готов был дать Самойловичу ледокол для науки вместо хозяйственных задач. Ещё раньше был спущен на тормозах гораздо более умеренный проект Николая Пинегина, предлагавшего создать на Северной Земле зимовочную базу, а обследование острова (или островов?) вести с помощью собачьих упряжек. Самолёт – дорого и рискованно. Большой ледокол – непомерно дорого, да и на проводке грузовых судов ледокол нужнее. Дирижабль – у Советов его просто нет, привлекать иностранцев – опять же риск. Хотя позже LZ-127 «Граф Цеппелин» летал по нашей Арктике и проводил аэрофотосъемку, но вот результатами немцы так и не поделились, хотя обещали… База с собаками – ну… наверно, можно, но тоже дороговато. Вот на этом фоне и возник Ушаков со своим собственным проектом. Возник – и всех убедил! «Всех» – то есть Арктическую комиссию при Совете народных комиссаров. В феврале 1930 года на заседании комиссии в Москве Георгий Алексеевич предложил изучать Северную Землю минимальными силами. Его идея ближе всего была к проекту Пинегина – опираясь на зимовочную базу, обследовать неизвестный район на собачьих упряжках. Но Пинегин просил для экспедиции семь человек и зверобойную шхуну, а Ушакову было достаточно четырёх участников (вместе с ним самим) и моторной лодки. В конце марта 1930 года СНК утвердил план экспедиции. Начальник – Ушаков, научный руководитель – Урванцев. Основная должность Ушакова в это время – заместитель директора Всесоюзного арктического института (ВАИ). ВАИ (бывший ИИС) – детище Самойловича, но теперь им руководит Отто Шмидт, будущий первый начальник Главсевморпути. Шмидт впервые попал в Арктику в 1929 году, когда открывали первую советскую станцию на Земле Франца-Иосифа – попал и полюбил навсегда. Он лично возглавил летом 1930 года поход на ледокольном пароходе «Георгий Седов», высадившем Североземельскую экспедицию. Ушаков изо всех сил старался удешевить и без того минималистичный проект. Решив использовать в экспедиции практичную, проверенную веками одежду из оленьих шкур, он отправился в управление Госторга и предложил отпустить ему со склада в Архангельске оленью одежду, обувь и спальные мешки в кредит. Сумма была большая. У администрации Госторга возник резонный вопрос: «Чем будете расплачиваться?» - Медвежьими шкурами! – ответил Ушаков. Согласились, одежду и спальные мешки выдали. Но теперь надо добыть не меньше сотни медведей… В экспедиции всего четыре человека – начальник, научный руководитель, каюр (отвечает за собак и промысел), и радист. При таком составе главное – сами люди, их качества. Опыт. Умения. Здоровье - врача в экспедиции не предполагается! Психологическая устойчивость: маленький коллектив на арктической зимовке – колоссальная зона риска. Не всегда можно сказать заранее, как поведет себя человек в условиях изоляции и полярной ночи. Например, в сменившей Ушакова на острове Врангеля команде Арефия Минеева оказался душевнобольной – повар Петрик, который будет бросаться на зимовщиков с топором… Урванцев и Ушаков понимают друг друга с полуслова, здесь никаких проблем нет. Радист, молодой ленинградец Василий Ходов, в Арктике первый раз, у него спокойный характер, он не станет противоречить старшим товарищам. Самая сложная фигура в команде – каюр Сергей Журавлёв, «матёрый полярный волк» по выражению Ушакова. Охотник-промысловик с опытом тринадцати зимовок на Новой Земле имеет независимый нрав и склонен к выпивке, хотя и обещает: «Слушаться буду! Знаю, на что иду». Как вообще воспринимало полярных исследователей советское общество тех лет? Уже отгремела эпопея Нобиле, прославился «Красин», выходили книги участников экспедиций, но полярники всё же не были такими всенародными героями, как в челюскинскую и папанинскую эру. Но именно в годы Североземельской экспедиции они появились на страницах художественной литературы. Например, в повести Леонида Леонова «Саранча» герой попадает в Среднюю Азию после Новой Земли, где «давил песцов силками и собирал гагачий пух для республики». «Саранча» относительно реалистична, а вот исчезновение лётчика Севрюгова в «Золотом телёнке» Ильфа и Петрова (1931) – уже чистая сатира на газетный дискурс тех лет. Севрюгов летит спасать потерявшуюся арктическую экспедицию и пропадает сам, а его соседи по коммуналке злорадствуют: «Пропал наш квартирант!.. А не летай, не летай!» Но вернёмся к Североземельской экспедиции. Подойти прямо к западному побережью «Георгий Седов» не смог. Участники высадились на небольшом островке – тоже ранее неизвестном. Остров получил имя «Домашний», здесь устроили базу – жилой дом, склад и магнитный павильон – особый домик для измерений земного магнетизма. Такие павильоны не должны иметь в конструкции ни одного грамма железа – чтобы не искажались показания приборов. Когда обосновались, приступили к работе. Впереди – две арктические зимовки и задача полного обследования пока неизвестного архипелага! Василий Ходов постоянно находился на базе – на нём вся связь с Большой Землёй. Электричество для радиостанции давал электрогенератор. Ходов не только принимает и отправляет сообщения – он ведёт метеонаблюдения, когда Ушаков, Урванцев и Журавлёв отправляются на собаках на архипелаг для топографической съёмки. Каждые несколько часов станция на Домашнем передаёт метеосводку. Магнитные наблюдения – на Урванцеве, на нём же – сборы геологических коллекций, ведь Николай Николаевич – прежде всего геолог. Ушаков занимается топографией и промыслом, много фотографирует. Журавлёв поначалу скептически относился к научным приборам, он привык к сугубо практической работе - промыслу. Но увидев, как на бумаге проступает береговая линия Северной Земли, впечатлился и поверил в важность работы учёных. Развлечения – книги, ещё иногда музыка по радио. Правда, взятую с собой «Анну Каренину» Журавлёв ни разу не открыл, зато хорошо работает книжка Ушакова о тёплых странах – на контрасте с реальностью! Писать про «суровые арктические испытания» полярников заезженными общими словами не хочется. Пурга, морозы и четырехмесячная полярная ночь – да, всё это было. Но для меня на первом месте среди вызовов, с которыми столкнулся Ушаков как начальник маленькой экспедиции, не льды, бураны и медведи, а психологическая драма. В январе 1931 года Ходов принял сообщение с Большой Земли от жены Сергея Журавлёва: «Шурик и Валя безнадёжно больны». И через несколько дней – второе: «Дети умерли…» Как сообщить об этом товарищу? «Полярный волк» много говорит о дочке и сыне, скучает по ним… Ушаков принимает решение – сказать на маршруте, чтобы тяжёлая работа отвлекла от горя. Ждёт два месяца – до первых лучей солнца, когда можно выезжать, ещё далеко. В марте вышли в поход – и Ушаков сообщил новость, как раз перед стартом с очередного привала. «Вместе с нами пошло и горе», - писал он об этом позднее. - Пойдём, Сергей! – говорит Ушаков, укладывая вещи. - Как пойдем? Куда? - Пойдём вперёд. Мы всегда должны идти вперёд! Через пару дней на полярников обрушивается метель. Идти невозможно. В заносимой снегом палатке Ушаков вслух читает каюру: «Горы закрывают Рио-де-Жанейро от здоровых ветров, лишают его вентиляции. Жители Рио очень ценят сквозняки…» Журавлёв попросил книгу, стал читать сам. И начал понемногу возвращаться к жизни! В общей сложности экспедиция прошла на собаках больше двух тысяч километров, выполнив пять больших маршрутов, первый – в октябре 1930-го, последний – в июне 1932-го. На карту легли границы всего архипелага (37 тысяч квадратных километров), контуры трёх больших (Большевик, Комсомолец и остров Октябрьской Революции) и множества мелких островов. Проступили ледники, горы и низины. Появилось представление о геологической истории Северной Земли. Не забывали и об охоте, перевыполнив для Госторга план по медведям. Летом 1932 года ледокольный пароход «Владимир Русанов» забрал полярников с Домашнего. Новую смену на станции Ушакова возглавила Нина Дёмме – первая женщина, ставшая начальником полярной станции. А накануне прихода «Русанова» к острову подошёл другой пароход – «Александр Сибиряков». Отто Шмидт задумал пройти по Севморпути за одну навигацию, и полная карта Северной Земли сразу же получила практическое применение – именно «Сибиряков» стал первым судном, которое обошло архипелаг с севера. …Много лет спустя Ушаков завещал похоронить себя на Домашнем, и воля полярника была выполнена. Саму станцию перенесли в 1954 году на другой остров, но дом, в котором жили Ушаков, Урванцев, Ходов и Журавлёв, сохраняется как памятник. Но самый главный памятник экспедиции – полная физическая карта Северной Земли. Названия географических объектов, данные Ушаковым и Урванцевым, несут на себе печать времени, они выраженно «советские», и в наши дни можно услышать голоса в пользу их замены. Кстати, некоторые объекты были переименованы из-за смены политических веяний ещё в советские годы – северная точка архипелага, мыс Молотова, стала называться «мыс Арктический», а залив Сталина – заливом Панфиловцев. Но одно дело – вернуться от советского названия к ранее бывшему историческому, тут я и сам всегда «за» (Малый Таймыр можно было бы и переименовать!). А на Северной Земле названиям, которые присвоила Североземельская экспедиция, нет альтернативы – именно они и есть исторические. До работ Ушакова и Урванцева эти мысы, острова и заливы не назывались вообще никак! Так что пролив Красной Армии и остров Пионер – такие же памятники своей эпохи, как и пролив Вилькицкого. Картинки: 1. Участники экспедиции только что высадились на остров Домашний. Слева направо: Урванцев, Ушаков, Журавлёв, Ходов. 2. Северная Земля после открытия экспедицией Вилькицкого… 3. …и после работ Североземельской экспедиции ВАИ. Океан на открытке - не океан, а "Северное полярное море", тогда у наших географов не было единой позиции, можно ли считать его океаном 4. Топографическая съемка в Арктике. Обложка журнала 1931 года. Так работали Урванцев и Ушаков на маршрутах по Северной Земле 5. Могила Ушакова на острове Домашний. |